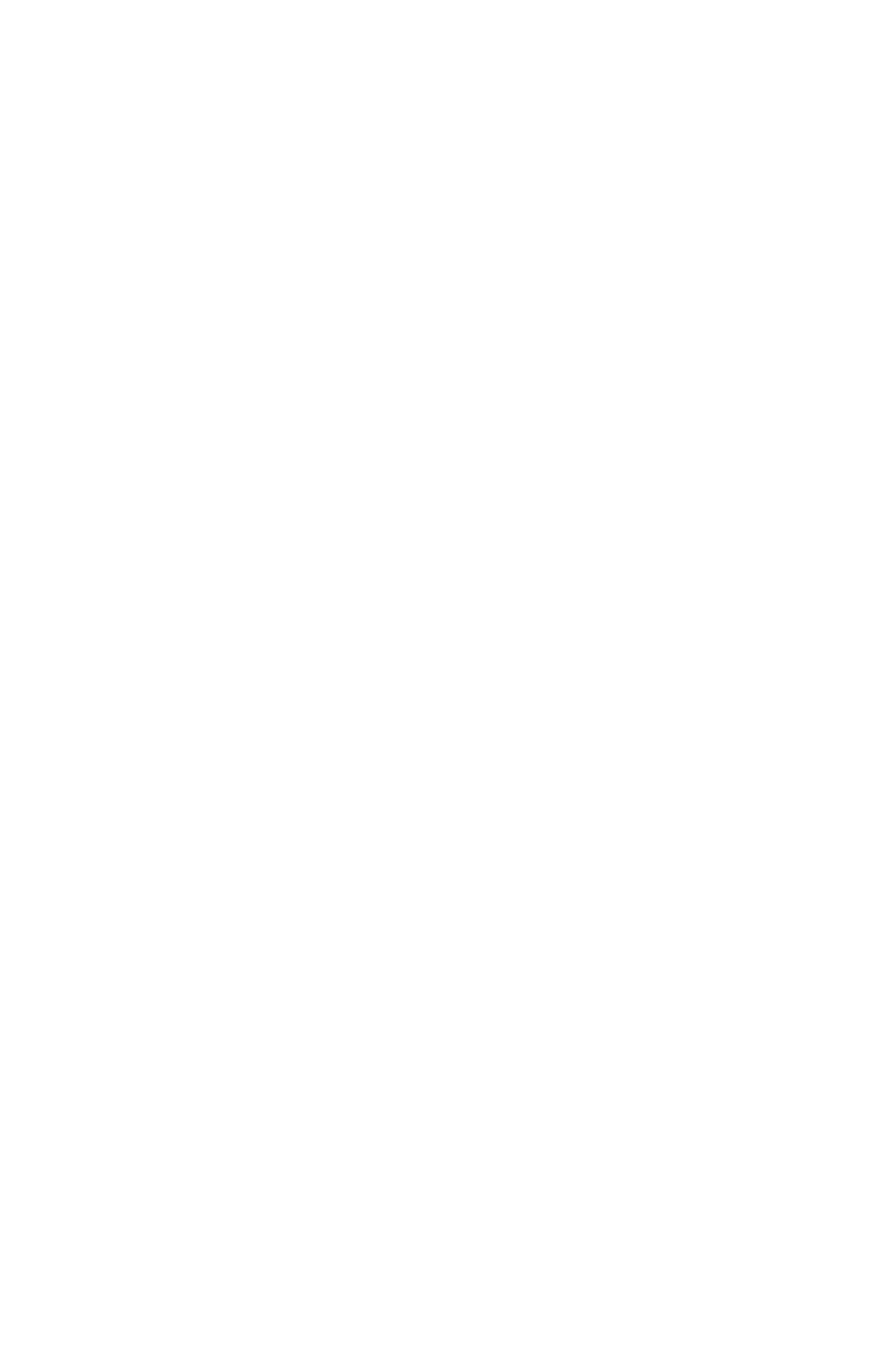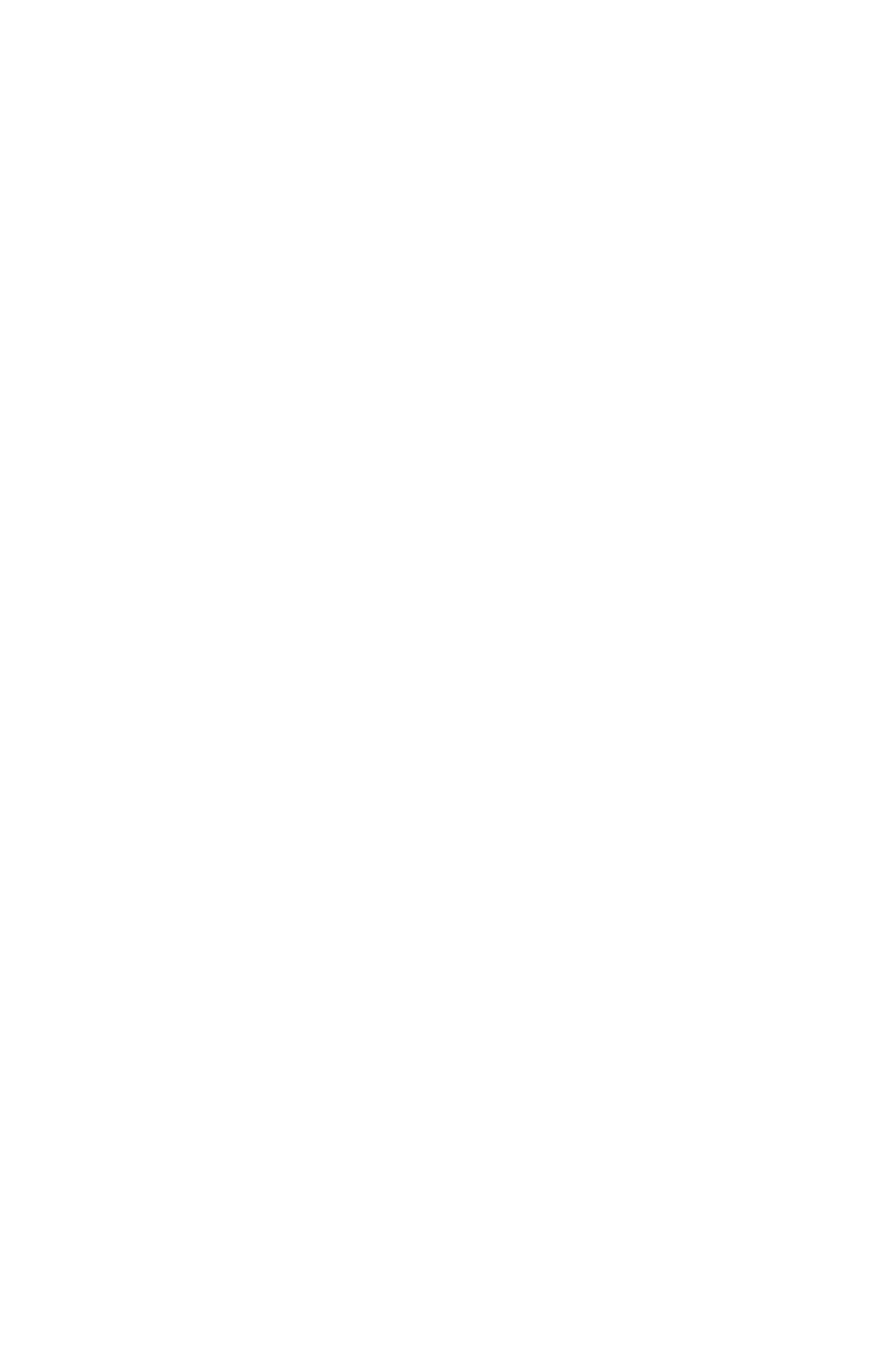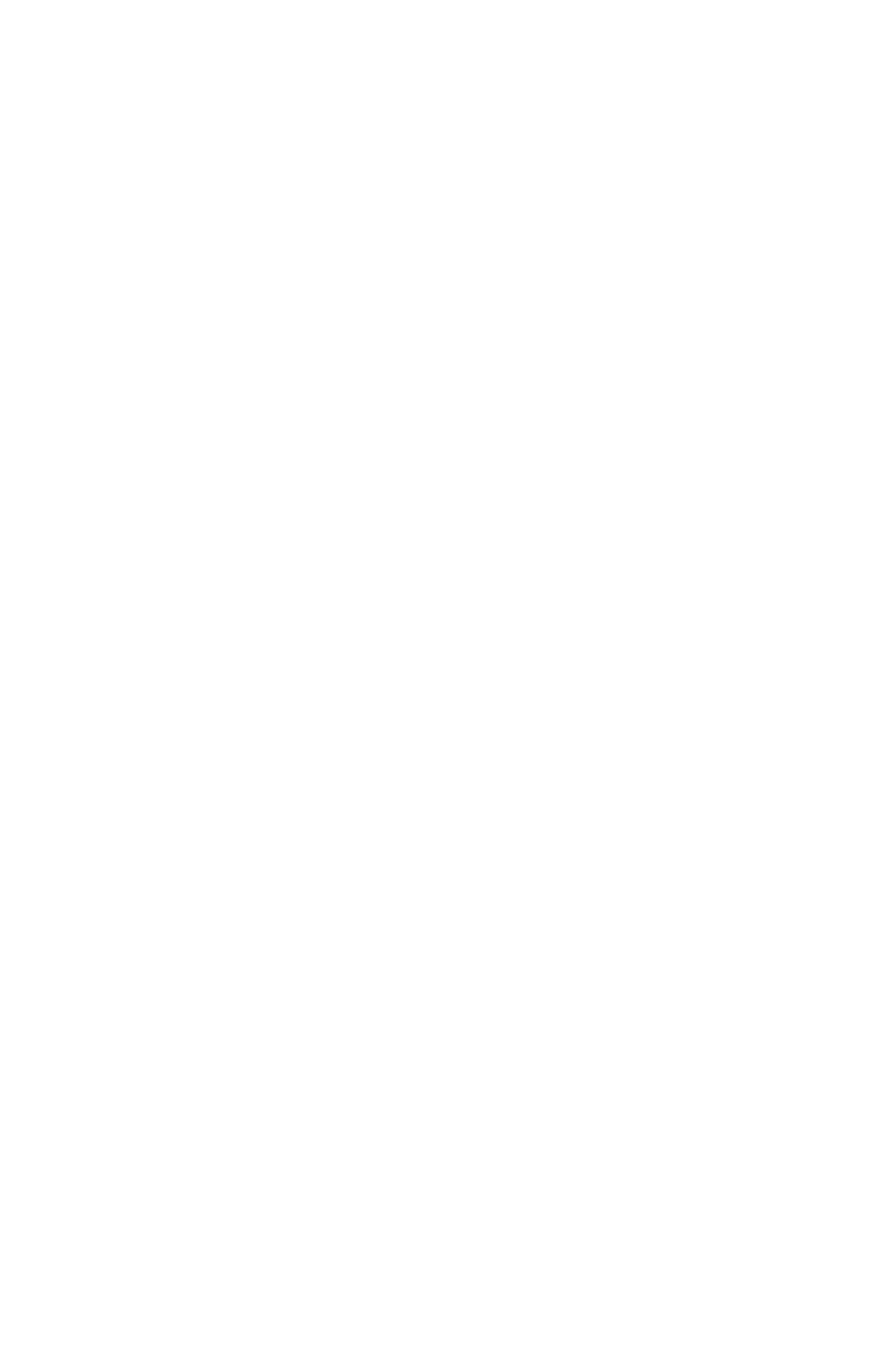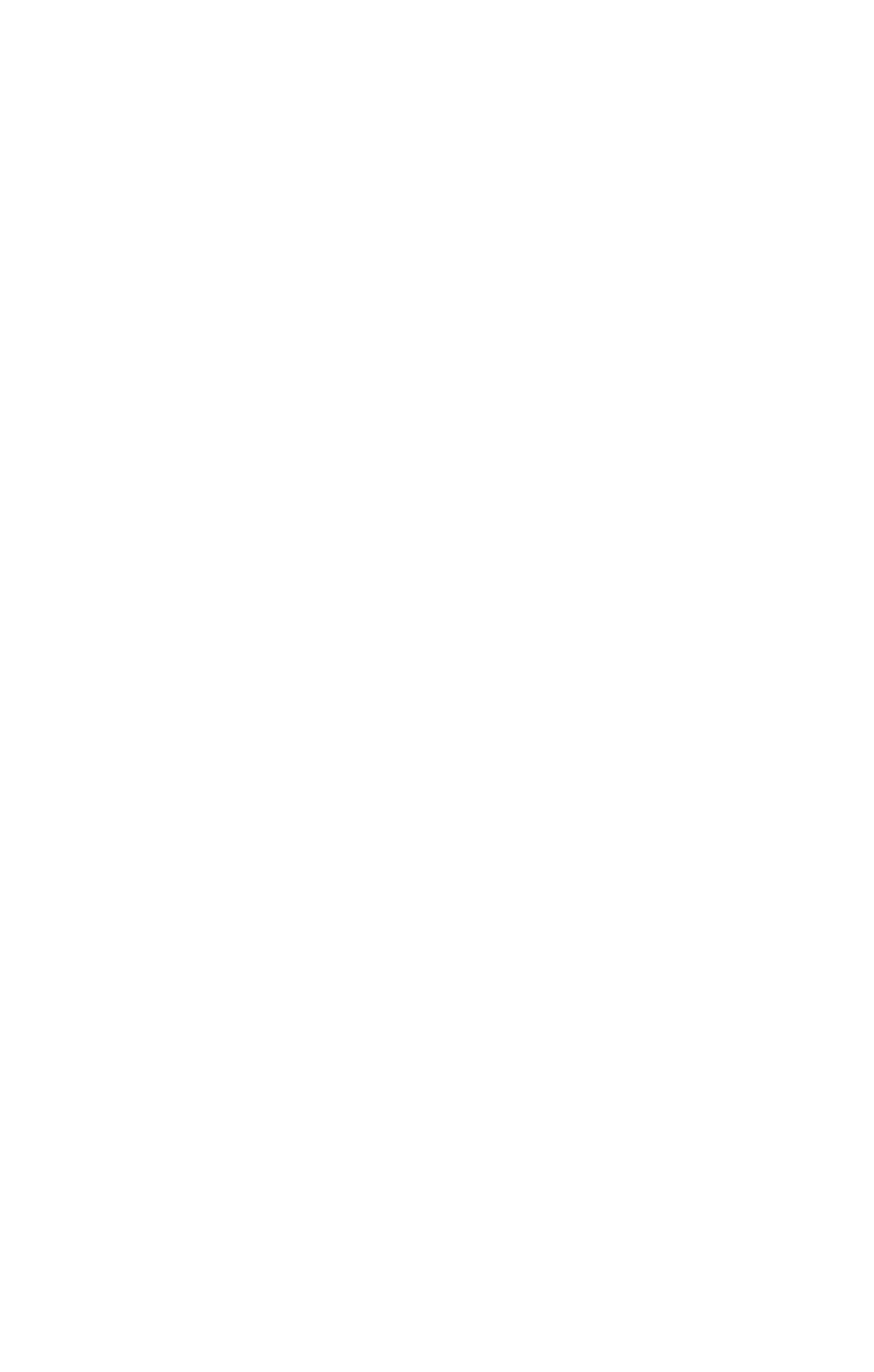Ча-Ща
Он говорит нам: Да-да, я знаю и про Магритта, и про Булатова с Кабаковым, теперь давайте всмотримся в изображение на холсте и помолчим.
Перезрелая мета-ирония довольно давно и прочно приучила зрителя к необходимости мгновенно, в лучших традициях собаки Павлова, вырабатывать интерпретации и смыслы при любом столкновении с искусством. И пусть «лирический герой» почил за школьной партой, но дело его продолжается в текстах экспликаций к произведениям. Магритт заявил, что трубка — «это не трубка» (ТМ), — и приоткрыл ящик Пандоры. Булатов пропитывал визуальное «высокое» визуальным «низким», языком агитпропа, констатируя очевидное, но как-то предельно однозначно, дабы очевидное захлебнулось в буквальности.
Саввин говорит нам, что лес — это просто лес (трубка — просто трубка, по аналогии), но не «всего лишь лес» и не «Лес» (с большой буквы), а «лес», как априорность и очевидность. А дальше — искусство пластического. Он призывает зрителя не сомневаться в своих догадках, не тщиться сгенерировать концепцию, подверстать увиденное под удобный и привычный способ интерпретации (по пути кратчайших аналогий и «схожестей» с тем-то и тем-то).
Он говорит нам: Да-да, я знаю и про Магритта, и про Булатова с Кабаковым, теперь давайте всмотримся в изображение на холсте и помолчим. Во-первых, это красиво. Во-вторых, сложно. Серия «Ча-ща» (любые совпадения неслучайны) — для зрителя не только знакомого с азбукой и грамматикой современного искусства, но и способного просто почувствовать, переставшего рефлекторно вербализировать всякое произведение.
Для зрителя, признавшего самодостаточную силу отдельного мазка и красочной кляксы, семантику живописи, не подвластную транслитерации по законам семантики языка вербальной коммуникации.
Саввин говорит нам, что лес — это просто лес (трубка — просто трубка, по аналогии), но не «всего лишь лес» и не «Лес» (с большой буквы), а «лес», как априорность и очевидность. А дальше — искусство пластического. Он призывает зрителя не сомневаться в своих догадках, не тщиться сгенерировать концепцию, подверстать увиденное под удобный и привычный способ интерпретации (по пути кратчайших аналогий и «схожестей» с тем-то и тем-то).
Он говорит нам: Да-да, я знаю и про Магритта, и про Булатова с Кабаковым, теперь давайте всмотримся в изображение на холсте и помолчим. Во-первых, это красиво. Во-вторых, сложно. Серия «Ча-ща» (любые совпадения неслучайны) — для зрителя не только знакомого с азбукой и грамматикой современного искусства, но и способного просто почувствовать, переставшего рефлекторно вербализировать всякое произведение.
Для зрителя, признавшего самодостаточную силу отдельного мазка и красочной кляксы, семантику живописи, не подвластную транслитерации по законам семантики языка вербальной коммуникации.
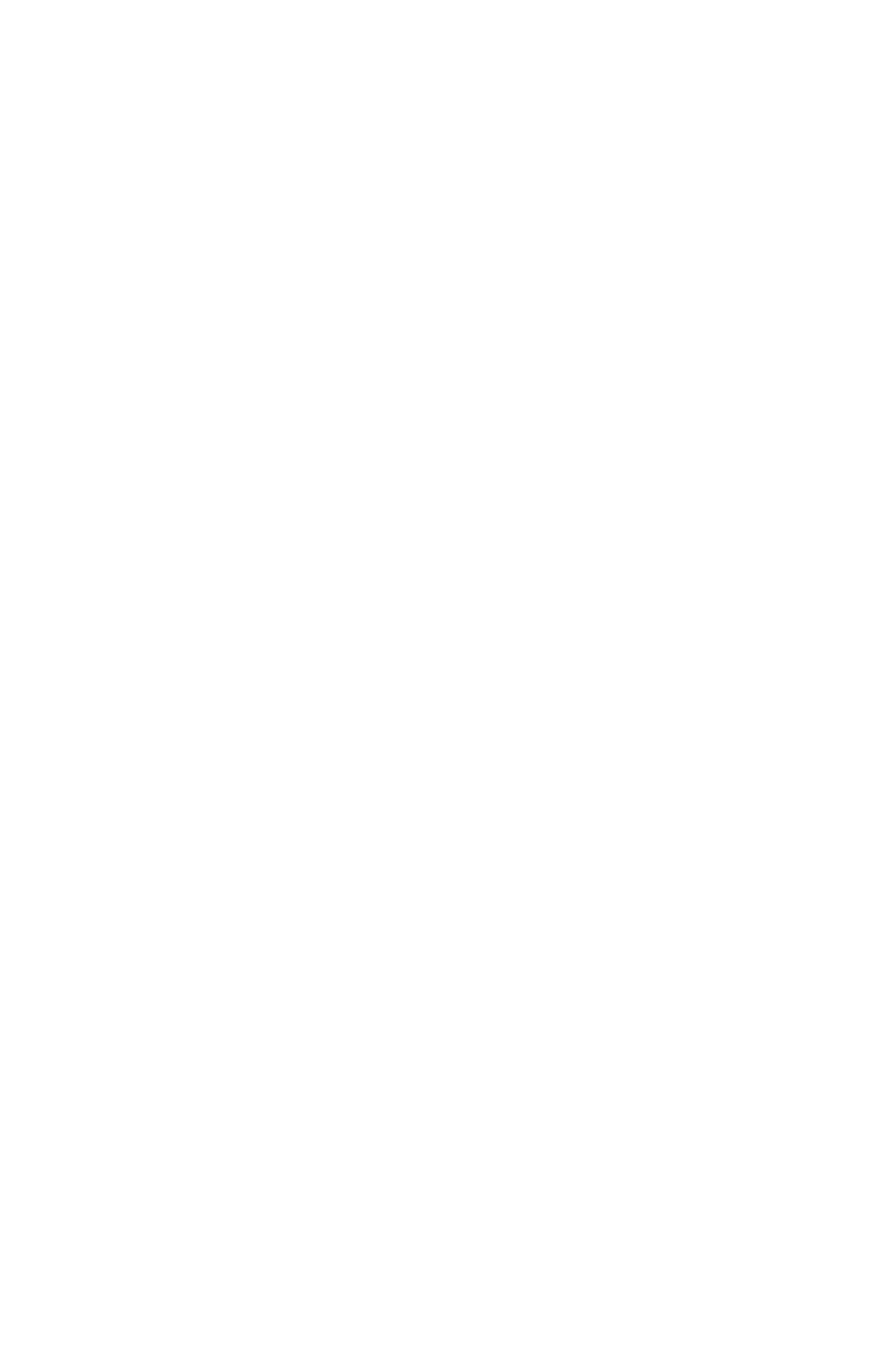
Дебри
холст, масло, акрил
170х110 cm
2025
170х110 cm
2025
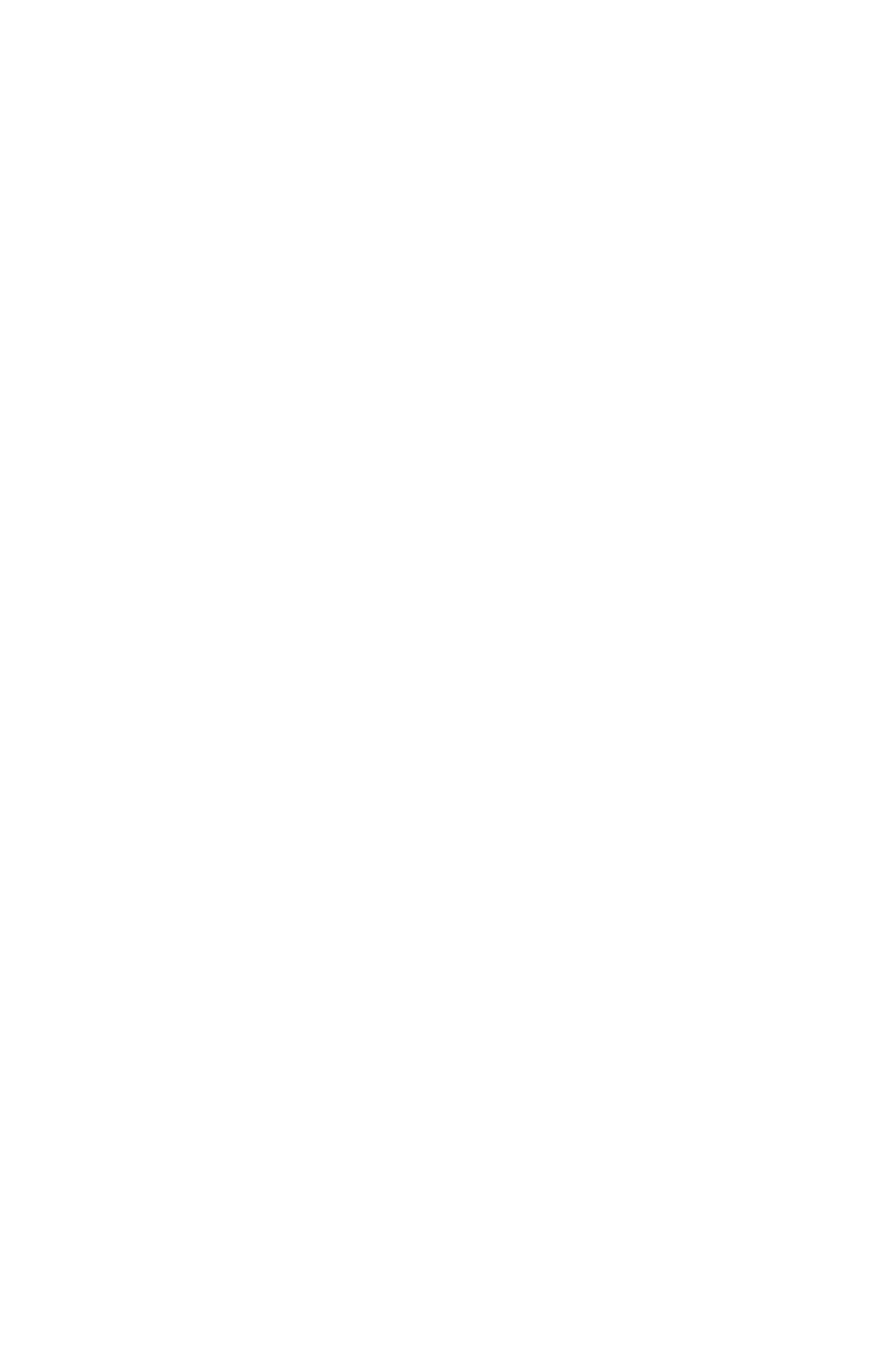
Дубрава
холст, масло, акрил
170х110 cm
2025
170х110 cm
2025